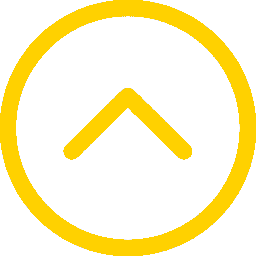Одиночество может быть одержимостью, бесчестной в своей непреодолимости. И в то же время эта картина, полная мрачных образов, может стать даром.
Время, которое я не так давно провела в квартале Ист-Виллидж на Манхэттене, сопровождалось самым сильным чувством глубочайшей подавленности, которое я когда-либо испытывала. Я жила в неотремонтированном многоквартирном здании на второй Ист-Стрит и каждое утро проходила через парк у площади Томпкинса, чтобы выпить кофе. Когда я впервые появилась здесь, деревья еще были голыми, и во время прогулок я проверяла, не появились ли почки. В этом районе много общественных парков и садов, поэтому я могла наблюдать за ирисами и тюльпанами, форзициями, вишней и огромной плакучей ивой, которая, казалось, за ночь сбрасывала свои сережки, будто корабль, который вот-вот поднимет якорь и исчезнет за горизонтом.
Вообще-то я не должна была оказаться в Нью-Йорке. По крайней мере не в таком состоянии. В Америке я встретила одного человека и практически мгновенно потеряла его, но будущее, о котором мы вместе мечтали, сохранило свою притягательность. И вот в одиночестве я приехала в город, который еще недавно должен был стать моим домом. У меня были друзья здесь, но я была лишена всех рутинных привычек и дел, из которых состоит жизнь. Эти маленькие вещи, поддерживающие меня, исчезли, так что не удивительно, что одиночество ударило по мне сильнее, чем когда-либо за те десять лет, что я живу одна.
Как я себя чувствовала? Внутри было пусто. К этому прибавлялась атмосфера места, где быть пустым бесчестно, где все остальные уже заполнили свою пустоту, а у тебя нет средств сделать то же самое. Иногда казалось, что прятаться — трудно и неловко, но важно. Маска иностранки не помогала. Я продолжала неумело играть в мяч с языком: когда ловила, он выскальзывал из рук, а когда бросала, то промахивалась. Почти каждый день я пила кофе в одном и том же месте — кафе со стеклянным фасадом и кучей крохотных столиков. Практически все посетители сидели, уставившись в экраны своих ноутбуков. Каждый раз происходило одно и то же: я заказывала обычный кофе из кофейника, название которого всегда было написано большими буквами на доске, и каждый раз бариста безучастно поднимал глаза и просил повторить заказ. Возможно, в родной Англии этот эпизод показался бы мне забавным или раздражительным, но той весной он, пробираясь мне под кожу, закладывал семена тревоги и стыда.
С одинокими людьми происходит что-то странное. Чем сильнее одиночество, тем более неуклюже человек лавирует в социальных кругах. Тоска, которой он обрастает словно мхом или скверным налетом, подавляет способность общаться, и не важно, как сильно он этого хочет. Одиночество само разрастается, распространяется и укореняется в человеке. Когда размышляешь о том, к чему все это может привести, на ум приходят келья отшельника или раковина моллюска.
Звучит как паранойя, но на самом деле странная способность одиночества к усилению описана в медицинских трудах. Психологи утверждают, что изначально запускается так называемое чувство сверхнастороженности к социальным угрозам. В это состояние мы попадаем бессознательно, а после привыкаем смотреть на мир пессимистично; мы ожидаем и запоминаем отрицательные контакты — эпизоды грубого отношения к нам, неприятия или напряженности, вроде моего примера с кофе. Конечно, это создает порочный круг, в котором одинокий человек становится все более и более изолированным, недоверчивым и замкнутым.
В то же самое время постоянное пребывание мозга «в боевой готовности» приводит к ряду психологических изменений. Одиноким людям свойственен беспокойный сон и высокое давление. Одиночество является предвестником преждевременного старения и снижения когнитивных способностей. В медицинском журнале «Анналы поведенческой медицины» мне попалось исследование 2010 года под названием «Одиночество — это важно: Теоретический и эмпирический обзоры механизмов и последствий», согласно которому одиночество предваряет повышенную заболеваемость и смертность. Говоря простым языком, от него можно умереть.
Не думаю, что у меня снизились когнитивные способности, но со сверхнастороженностью я столкнулась довольно скоро. В те месяцы, когда я жила в Манхеттэне, это проявилось в практически болезненной тревожности по отношению ко всему, что связано с городом. Это было некой формой перевозбуждения, колебавшейся между паранойей и желанием. Днем в моем доме никого не было слышно, зато ночью стоял шум закрывающихся и открывающихся дверей, и я слышала, как люди постоянно ходят мимо моей комнаты, практически в метре от моей кровати. Моим соседом был диджей, и в квартире раздавалась музыка в какие-то ну совсем неподходящие для этого часы. К двум-трем часам ночи требующий выхода гнев соседей выливался в стучание по трубам, ну а иногда, прямо перед рассветом, меня будила сирена пожарной машины, выезжающей со своей станции (которая потеряла шесть членов бригады во время трагедии 11 сентября) на моей улице.
В те проклятые ночи казалось, что этот призрачный и полный пустот город высасывает мою жизнь. Я лежала на своей раскладной кровати, а басы из соседней комнаты колотили меня в грудь. Я лежала и думала о том, каким этот район был раньше. Как мне рассказывали, в 1980-х годах этот квартал Ист-Виллидж, который известен как Алфавитный город из-за четырех вертикальных проспектов, от A до D, был поглощен героиновой зависимостью. Люди продавали наркотик на лестничных площадках через дверные проемы, и иногда очереди за ним заканчивались уже на улице. В то время многие здания были заброшены, некоторые превращались в места импровизированных съемок, а другие уже обживали художники, которые только начинали заселять эти места.
Наиболее близким по духу мне казался Дэвид Войнарович, худой парень со впалыми щеками и в кожаной куртке. Перед тем как стать художником, он жил на улице и зарабатывал там же. Со временем он стал знаменитым, примерно тогда же, когда и Жан-Мишель Баския и Кит Харинг. Дэвид умер от осложнений СПИДа в 1992 году, не дожив пары месяцев до своего 38-летия. Незадолго до своей смерти он написал книгу «Возле ножей: Мемуары о распаде» — последовательное, бунтарское собрание сочинений о сексе, поиске партнеров, одиночестве и дурных политиках, которые отказывались серьезно относиться к проблеме СПИДа.
От книги я была в восторге, особенно от отрывков про причал на реке Гудзон. В 1960-х годах снизилось количество судоперевозок, и причал, простиравшийся от 14-ой улицы до улицы Кристофера, пришел в забвение и совсем опустел. В 1970-х Нью-Йорк был на грани банкротства, поэтому эти огромные разваливающиеся строения не было возможности ни снести, ни должным образом охранять. В некоторые самовольно заселились бомжи, которые обустраивали места ночевок в складских помещениях и зонах принятия товара, а другие использовались гомосексуалами как места «встреч» с партнерами.
В своей книге Войнарович описывает, как бродил по зонам отправки ночами или во время грозы. Они были просторны, как футбольные поля с опаленными стенами, их полы и потолки — продырявлены. В полумраке он видел обнимающихся мужчин и зачастую следовал за одиноким силуэтом вниз по проходам и вверх по лестничным пролетам, в комнаты устланные травой или небрежно разбросанными бумагами; здесь ощущался аромат соли, поднимающийся от реки. «Так просто, — пишет Дэвид, — присутствие ночи в комнате с незнакомцами, блуждания по лабиринтам коридоров как в фильмах, мелькание тел между светом и тьмой и исчезающие звуки самолетных двигателей».
Вскоре другие художники стали осваивать причал. Их работы украсили стены зданий. Гигантские обнаженные парни с эрегированными членами. «Лучезарные дети» Кита Харинга. Лабиринт, обведенный белой краской на грязном полу. Прыжок кошки, Фавн в темных очках, давящиеся коровы Войнаровича. Розово-оранжевая роспись переплетающихся туловищ. Льющаяся техника Майка Бидло, которая отлично бы смотрелась в Музее современного искусства. C мостика наверху можно было вглядываться в берег Нью-Джерси, а в жаркие дни обнаженные мужчины загорали на деревянных платформах, пока кинематографисты создавали внутри свою версию падения Помпей.
Тех зданий уже давным-давно нет. Их снесли в середине восьмидесятых, когда СПИД начал уничтожать обитавших там людей. Со временем на набережной появился парк реки Гудзон, досуговая площадка с деревьями, роллерами, гламурными родителями с колясками и маленькими собачками. Но даже введение комендантского часа не смогло подавить эротический дух этого места. Летними ночами причал 45, старая бухта для секса, превращается в танцевальную площадку для бездомных ЛГБТ-подростков; тем не менее из-за проблем с насилием каждый год разгораются споры о поддержании правопорядка.
Меня радовало, что эти ребята все еще отбрасывают свои тени на речной берег, но каждый раз, прогуливаясь по парку, я оплакивала эти разрушенные здания. Наверное, мне нравилось мечтать о причалах — таких, какими они когда-то были, с их просторными и разрушенными помещениями. Мне казалось, что они представляли собой идеальный город, который позволял тебе делить свое одиночество с другими, давал возможность встречи, самовыражения и роскоши пребывания среди соплеменников (кем бы они ни оказались). Я часто думаю об этих причалах — сказочных, обваливающихся комнатах, врастающих в поверхность воды, где молодые люди, которых уже давно нет, освободили друг друга, как однажды сказал Войнарович, «от безмолвия внутреннего заточения».
Одиночество и искусство, одиночество и секс — эти вещи связаны между собой и также связаны с городами. Одна из привычек, сопряженная с хроническим одиночеством — это накопительство, что тесно граничит с искусством. Мне на ум приходят как минимум трое художников, которые боролись с чувством изоляции, собирая разные предметы с улицы. Их художественные практики были тесно связаны со сбором мусора и спасением всего грязного, использованного и выброшенного. Я говорю о Джозефе Корнелле, человеке стеснительном, не от мира сего, который был одним из родоначальников ассамбляжа; о Генри Дарджере, чикагском дворнике и художнике-затворнике; и об Энди Уорхоле, который, несмотря на то, что окружал себя блистающей толпой, часто упоминал о безнадежном чувстве собственного одиночества и отчужденности.
Корнелл создавал прекрасные миры в коробках из маленьких вещиц, которые приносил домой из секонд-хэндов, тогда как Уорхол десятилетиями одержимо скупал вещи в магазинах (именно таким, склонным к стяжательству, Энди увековечен в серебряной скульптуре на Юнион-сквер: на шее полароид, а в правой руке пакет из универмага Blomingsdale’s). Самой грандиозной и масштабной его работой является «Временные капсулы» — 612 запечатанных картонных коробок, заполненных последними 13 годами его жизни, со всяким разным хламом с «Фабрики» (The Factory — арт-студия Энди Уорхола в Нью-Йорке, активно действовавшая с 1962 года — прим. Newочём): открытки, письма, газеты, журналы, фотографии, счета, кусочки пиццы, пирогов и даже мумифицированная нога человека. Что касается Дарджера, он проводил почти все свое свободное время бродяжничая по Чикаго, собирая и сортируя мусор. Он использовал некоторые находки в своих странных, волнующих картинах маленьких девочек, вовлеченных в страшные битвы, но большинство находок — в частности, куски струн — существовали в качестве своего рода «контр-экспоната» его собственной, никому не открытой души.
Люди, склонные к коллекционированию всякого хлама, чаще всего социально изолированы. Иногда скопидомство является причиной изоляции, а иногда это обезболивающее лекарство от одиночества, своеобразный способ утешения. Не каждый человек склонен проводить время в компании предметов, не каждый подвержен желанию хранить и сортировать их, создавать из них баррикады или играть, как делал Уорхол — то «изгоняя», то «возвращая» обратно. Той необычной, одинокой весной у меня появилась привязанность к желтым заказным квитанциям из Нью-Йоркской публичной библиотеки, которые я хранила у себя в кошельке. Мне нравились ручки и карандаши всех видов, и я буквально влюбилась в фигурку борца сумо, которую мне подарил друг из Колумбийского Университета. Это был поразительно отвратительный предмет, созданный для того, чтобы ударяя его кулаком снимать стресс, хотя слезы, которые лились из его глаз, говорили о том, что он был не особенно приспособлен для этого занятия.
Как у Уорхола и Даргера, у Войнаровича была склонность привязываться к предметам. Его искусство переполняют разные находки: коряги, раскрашенные под крокодилов; карты, часы и обрывки комиксов. Среди всего этого набора был скелет слоненка, который он таскал с собой из одной захламленной квартиры в другую. Какое-то время он жил в моем квартале, и в день переезда он нес этот скелет по улице, обернув простыней, чтобы соседи не подумали чего дурного. В свои последние дни он отдал скелет и свою грязную, изношенную куртку двум друзьям, с которыми сотрудничал. Может, в этом заключается очарование вещей для одиноких — они могут доверить им пережить самих себя?
После утренних прогулок вдоль Гудзона я иногда возвращалась в Вест-Вилледж, чтобы позавтракать с отцом одного моего знакомого. Аластер жил в крохотной, аккуратной квартире недалеко от станции метро на Кристофер-Стрит в Вест-Виллидж. Он был поэтом, родом из Шотландии, однако провел большую часть жизни в Южной Америке, откуда писал репортажи для New Yorker и переводил на английский Борхеса и Неруду.
Его комната была завалена книгами и различными приятными штуковинами: окаменелый лист, закрепленная на столе точилка для карандашей, удивительный складной велосипед. Приходя, я каждый раз приносила хризантемы цвета однофунтовых монет, а он в обмен поил меня кофе из маленьких чашек, кормил маффинами и рассказывал о мертвом творце из еще одной эры Нью-Йорка. Он вспоминал Дилана Томаса, шлявшегося по барам Гринвич-Вилледж, и Френка О’Хару, поэта нью-йоркской школы, который в сорок лет попал в аварию и умер на Фэйр-Айленд. Хороший был мужик, вспоминал он. Аластер курил и говорил, разражаясь приступами рубленого кашля. В основном он рассказывал мне о Хорже Луисе Борхесе, слепом Борхесе, который с детства говорил на двух языках и умер, изгнанный в Швейцарию. Он был любимцем всех таксистов Буйнос-Айреса.
Я покидала эти встречи чуть не сияя от счастья. Приятно было чувствовать, что мне рады и что меня принимают. Однажды Аластер сказал, что скучал по мне, и мое сердце екнуло от радостного осознания собственного присутствия в чьей-то жизни. Наверное, именно в этот момент я осознала, что не могу дальше балансировать между недостаточной привязанностью к Нью-Йорку и неуверенностью в необходимости возвращаться домой. Я скучала по своим друзьям и в частности по тем прочным отношениям, в которых человек может выражать что-то кроме прекрасного настроения. Мне хотелось вновь оказаться в своей квартире в окружении того барахла и утвари, что скопились там за несколько десятков лет. Я не ожидала, что буду чувствовать себя так странно, проживая в чужом доме, и что это так сильно ударит по моему чувству безопасности и собственного «я». Вскоре после этого я взяла билет на самолет в Англию и начала восстанавливать давние близкие взаимоотношения, которые, казалось, разорвала навсегда.
Похоже, в этом и заключается смысл одиночества: в том, чтобы побудить к восстановлению социальных связей. Так же, как и сама боль, оно необходимо, чтобы подготовить организм к ситуации несостоятельности, подтолкнуть к изменению положения дел. Считается, что человек — существо социальное, и потому изоляция для нас представляет — или, по крайней мере, представляла в какой-то момент эволюции — опасность. Эта теория хорошо объясняет физические последствия одиночества, которые выражаются в чувстве страха, но я не могу отделаться от мысли, что она не способна передать всю суть этого состояния.
Через некоторое время после возвращения домой я нашла англоязычное стихотворение Борхеса — этому языку его научила бабушка, когда он был ребенком. Оно напомнило мне о времени, проведенном в Нью-Йорке, и в частности о Войнаровиче. Это любовное стихотворение, написанное от лица человека, который ночь напролет шатается по улицам города. В действительности, так как он напрямую сравнивает ночь с волнами, «темно-синими высокими волнами <…> отягощенными вещами, // невероятными и желанными», можно всерьез решить, что он ищет приключений себе на задницу.
В первой части он описывает встречу с некой «тобой», «столь вальяжной и бесконечно прекрасной», а во второй говорит о том, что он может предложить, озвучивая длинный перечень неожиданных и двусмысленных подарков, заканчивающийся тремя строчками, которые, несомненно, были бы понятны Войнаровичу:
Тьмой, одиночеством и голодом сердечным
я с вами поделюсь, пытаясь подкупить
угрозой, поражением, тревогой
Мне потребовалось много времени, чтобы понять, что одиночество может быть подарком, но теперь, похоже, я наконец-то это осознаю. Стихотворение Борхеса пролило свет на обратную сторону того пугающего эссе, опубликованного в «Анналах поведенческой медицины», посвященного последствиям и механизмам одиночества. Одиночество может спровоцировать повышение давления или вызвать паранойю, но также оно предлагает компенсацию — глубокое видение, его голодную остроту. Сейчас, когда я думаю об этом, это место представляется мне похожим на старые гудзонские причалы: пейзаж, в котором сочетаются опасность и перспектива, наполненный незаметным присутствием случайных путников, где иной раз сворачиваешь за угол, чтобы увидеть сияющие блики на грязных стенах.
По материалам: Aeon. Перевели: Юрий Гаевский, Варвара Болховитинова и Полина Пилюгина.
Перевод стихотворения: Кирилл Козловский.
Редактировали: Анна Небольсина, Варвара Болховитинова, Дмитрий Грушин и Артём Слободчиков.