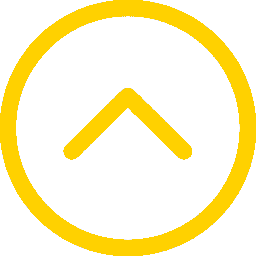История о Лоле — женщине, которая помогала его воспитывать — стоила Алексу Тизону большого труда. В 11 лет он осознал, что Лола была рабыней его семьи
Podster, iTunes, YouTube, Скачать, Telegram
Образцовую карьеру журналист, лауреат Пулитцеровской премии Алекс Тизон построил благодаря умению слушать людей: тех, кто забыт, тех, кто остался на периферии жизни, тех, чьих голосов прежде никто не слышал. Его жена Мелисса рассказала нам, что Алекс никогда не любил беседовать по мелочам, поскольку был уверен: в глубине каждого кроется невероятная история. Именно их он хотел записать и рассказать миру.
«Где-то в хитросплетениях человеческих мук и стремлений и кроется история», — считал Тизон.
Алекс и The Atlantic преследовали похожие цели, и в апреле 2016 года мы с большим удовольствием опубликовали его статью «Земля пропавших», прекрасный материал о людях, загадочно исчезнувших на просторах Аляски. Редакция с радостью приняла предложение Алекса напечатать историю, которую он таил в себе большую часть жизни: трогательный рассказ о Лоле, бывшей рабыне семьи журналиста на Филиппинах и в США.
Мы были глубоко опечалены, узнав о кончине Алекса 24 марта. Он умер во сне по естественным причинам, в собственном доме в Юджине, штат Орегон. Ему было 57 лет.
Смерть Алекса стала трагедией для всей его семьи: жены Мелиссы, дочерей Майи и Дилан, его братьев и сестер. Студенты Орегонского университета потеряли любимого преподавателя, а редакторы и читатели The Atlantic — талантливого автора, с которым только-только начали знакомиться.
Алекс имел репутацию уважаемого и читаемого журналиста. Работая в Seattle Times, он в 1997 году получил Пулитцеровскую премию, а позже руководил подразделением Los Angeles Times в Сиэтле. В своих мемуарах «Большой маленький человек: в поисках моего азиатского „я“» Алекс с болью описал все сложности, унижения и небольшие победы азиатского мужчины, пытающегося приспособиться к жизни в Америке.
Его интерес к людям, живущим далеко за пределами привычной жизни, был неиссякаем. Когда Алекс пришел в редакцию с нежной и в то же время горькой историей о своей семье и ее страшной тайне, мы поняли, что это и есть та самая журналистика, которой издание занимается с самого основания. The Atlantic был создан в 1857 году группой аболиционистов из Новой Англии, ратовавших за идеи всеобщей свободы. Прочтя черновик работы Алекса, я тут же подумал: основатели журнала — Ральф Уальдо Эмерсон, Генри Уэдсворт Лонгфеллоу и Гарриет Бичер Стоу — не поверили бы, что даже через 154 года после подписания «Прокламации об освобождении рабов» люди продолжают порабощать друг друга по всему миру. Для человечества искоренение всех форм рабства остается недостигнутой целью, а истории вроде той, что написал Алекс, помогают нам осознать их ужасающую прочность.
Мелисса рассказала мне и Денис Уиллс, редактору Алекса, что историю Лолы он хотел открыть миру больше всего. «Это публикация всей его жизни, — поделилась Мелисса. — Алекс бился над ней пять или шесть лет, ему было очень тяжело. Однако решив отправить статью в The Atlantic, он словно забыл про свои муки и с легкостью закончил работу».
Алекс не знал, что его история станет главной темой номера — он умер в тот день, когда мы приняли это решение. Его уход поставил выпуск под угрозу, но семья журналиста во главе с его женой, тесно работая с редакцией в этот тяжелый период, сделала публикацию возможной. Мы благодарны им и благодарны Алексу за то, что он поделился с нами своей историей — своей невероятной историей.
Рабыня моей семьи
Она прожила с нами 56 лет, вырастив меня, моих братьев и сестер. Я был обычным 11-летним американским мальчишкой, когда понял, кто же она на самом деле.
Прах поместился в черный пластмассовый контейнер размером с тостер. Я завернул его в холщовую сумку, положил в чемодан и сел в самолет до Манилы. Оттуда я на машине добрался до далёкой деревни, чтобы передать останки женщины, которая провела 56 лет в рабстве у моей семьи, ее родным.
Звали ее Эудосия Томас Пулидо, но мы называли ее Лолой. Невысокого роста, кожа цвета кофе, миндалевидные глаза. Я вижу их перед собой как наяву — мое первое детское воспоминание. Эудосии было 18 лет, когда мой дед подарил ее моей матери. Позже моя семья переехала в США, забрав Лолу с собой.
Кроме как рабским, положение Лолы было не назвать. День ее начинался задолго до пробуждения домочадцев и заканчивался глубоко затемно, когда все уже спали. Она готовила, убирала, ждала моих родителей с работы, заботилась обо мне, моих братьях и сестрах. Родители никогда не платили ей и часто ругали. Лолу не держали в цепях, но она была словно прикована к нашей семье и своим обязанностям. Вечерами, направляясь в ванную, я не раз видел Лолу, уснувшую в углу на куче белья; руки ее сжимали одежду, которую она складывала.
Для наших соседей-американцев мы были образцовой семьей иммигрантов, словно сошедшей с рекламного плаката — по их же словам. Отец получил юридическое образование, мать училась на врача, а мы, дети, приносили домой хорошие отметки, никогда не забывали говорить «спасибо» и «пожалуйста». Но о Лоле мы никому не рассказывали. Семейный секрет прочно укоренился в нас и сильно повлиял на наши, по крайней мере детские, стремления.
После смерти моей матери от лейкемии в 1999 году Лола переехала со мной в маленький городок к северу от Сиэтла. У меня была семья, работа, дом — прямо американская мечта. А теперь появилась рабыня.
Получив багаж в Маниле, я открыл чемодан и проверил, на месте ли прах Лолы. На выходе из аэропорта я ощутил знакомый аромат смеси из выхлопных газов, отходов, океана, фруктов и пота.
Утром следующего дня я нашел водителя, приветливого мужчину средних лет по прозвищу Дудс, и мы отправились в путь на грузовике, лавируя в плотном потоке машин. Манила всегда поражала меня. Огромное количество автомобилей, мотоциклов, джипни; среди них шныряют люди, на тротуарах сливаясь в огромные потоки; тут же в поисках покупателей сигарет, леденцов от кашля и мешочков с вареным арахисом мечутся босоногие уличные торговцы; дети просят милостыню, прижимаясь лицом к окнам машин.
Мы с Дудсом направлялись туда, где началась история Лолы: на север Филиппин, в провинцию Тарлак. Именно там когда-то жил большой любитель сигар лейтенант Томас Асунсьон, мой дед. Семейные предания рисуют дедушку грозным мужчиной, который частенько пребывал в скверном расположении духа и устраивал чудные выходки. У него было много земли и мало денег. Любовниц лейтенант Том держал в отдельных домах на территории своего поместья. Его жена умерла при родах их единственной дочери, моей матери, которую впоследствии растили utusans, или «люди, выполняющие команды».
Рабство на Филиппинских островах уходит корнями в далекое прошлое. До прихода испанцев островитяне порабощали друг друга — рабами, как правило, становились преступники, должники или военнопленные. Положение рабов отличалось: воины могли вернуть себе свободу, проявив отвагу, а прислугу, которую считали собственностью, покупали, продавали и обменивали. Раб более высокого статуса мог иметь рабов статусом пониже. Некоторые попадали в зависимость по собственной воле, чтобы выжить, получая за свой труд еду, кров и покровительство.
В начале 16 века на архипелаг прибыли испанцы и заключили туземцев в неволю, затем привезя рабов из Индии и Африки. В конечном счете Испанская корона решила искоренить рабство внутри страны и в колониях, но некоторые располагались так далеко, что уследить за ними было невозможно. Рабство в различных формах никуда не ушло, даже когда острова перешли под контроль США в 1898 году. Сегодня любой бедняк может иметь при себе utusan, katulong (помощника) или kasambahay (прислугу), если найдутся люди в еще более бедственном положении.
На земле лейтенанта Тома жили три семьи utusan. Весной 1943 года, после оккупации Филиппин японцами, он привел домой девушку из деревни неподалеку. Она приходилась ему двоюродной сестрой, но родилась в бедной семье, работавшей на рисовых полях. Дед мой смекнул: без гроша в кармане, неграмотная она, вероятно, будет послушной. Родители хотели выдать ее замуж за свинопаса вдвое старше; жизнь Эудосии была беспросветно несчастной, но идти ей было некуда. Поэтому Том предложил девушке еду и кров в обмен на заботу о своей двенадцатилетней дочери.
Лола согласилась, не понимая, что обрекает себя на пожизненный труд.
— Я дарю ее тебе, — сказал лейтенант Том.
— Она мне не нужна, — ответила мама, понимая, что ее отказ не имеет никакого значения.
Вскоре Лейтенант Том отправился на фронт сражаться с захватчиками, оставив дочь с Лолой в своем ветхом доме. Лола кормила, одевала маму, ухаживала за ней, как могла. Когда они шли по рынку, Лола держала над девочкой зонт, чтобы защитить ее от солнца. У Лолы было полно и другой работы: она кормила собак, подметала, складывала одежду, которую стирала вручную на реке. Вечером, когда все дела были сделаны, Лола устраивалась рядом с кроватью матери, обмахивая ее, пока та не заснет.

Во время войны лейтенант ненадолго вернулся домой. Как-то раз он узнал, что мама его обманывает и общается с мальчиком, с которым ей разговаривать не следовало. В ярости Том приказал ей «встать у стола». От страха мама забилась в угол, вместе с тем прижимаясь к Лоле. Дрожащим голосом она сказала отцу, что наказание примет служанка. Лола умоляюще посмотрела на маму, но молча подошла к столу и схватилась за край. Том ударил ее ремнем 12 раз, и на каждый удар приходилось по слову. Ты. Никогда. Не. Должна. Мне. Врать. Ты. Никогда. Не. Должна. Мне. Врать. Лола не издала ни звука.
Моя мать, в подробностях вспоминая эту историю в старости, словно упивалась ее возмутительностью; в голосе мамы будто слышалось: «Можешь поверить, что я так поступила?». Когда я спросил об этом случае у Лолы, она попросила меня рассказать мамину версию и, внимательно выслушав, с грустью в глазах сказала: «Да, так все и было».
В 1950 году мама вышла замуж за моего отца, и они переехали в Манилу, прихватив с собой и Лолу. Через год лейтенант Том, давно терзаемый внутренними демонами, заставил их замолчать, пустив себе пулю в голову. Мама не любила говорить о смерти отца. У нее был папин характер — та же угрюмость, властность и ранимость, которую она старалась скрывать. Его уроки она приняла близко к сердцу, смирившись с ролью провинциальной матроны, командующей слугами. Каждый во имя всеобщего блага и добра должен знать свое место и понимать, кто есть кто. Слуги могут плакать и жаловаться, но души их будут благодарны хозяйке. Они будут любить ее, ведь она помогает им на пути, определенном Богом.

В 1951 году родился мой брат Артур, затем на свет появился я, а потом еще трое детей. Родители ждали от Лолы такой же преданности своим отпрыскам. Пока Лола заботилась о нас, мать с отцом получали высшее образование, но в конечном счете остались безработными обладателями престижных дипломов. Однако в один день наша жизнь навсегда изменилась: отцу предложили должность торгового аналитика в Министерстве иностранных дел. Зарплата была скромной, но работать предстояло в США — стране, о переезде в которую родители грезили с самого детства, веря, что именно там все их мечты воплотятся в жизнь.
Папе разрешили взять с собой семью и служанку. Так как мои родители собирались работать, без помощи Лолы им было не обойтись: кому еще приглядывать за детьми и домом? Согласилась она не сразу, чем вызвала сильное раздражение моей матери. Спустя годы Лола призналась: она просто испугалась. «Это же так далеко, — вспоминала она. — Я боялась, что твои родители не пустят меня домой, на Филиппины».
Отец пообещал Лоле: в США все будет по-другому, и как только они встанут на ноги, то назначат ей пособие, которое она сможет отсылать домой, родителям. Жили они очень скромно, в лачуге на голой земле. А Лола сможет построить им дом, раз и навсегда изменив их жизнь к лучшему. Только представь, Лола!
Мы прилетели в Лос-Анджелес 12 мая 1964 года. К тому времени Лола провела с моей матерью уже 21 год. Во многом она была мне ближе, чем родители. Ее я видел, просыпаясь утром и засыпая вечером. Ребенком я научился произносить имя Лолы как «О-а» задолго до того, как стал говорить «мама» и «папа». Я частенько отказывался спать, если Лола не держала меня на руках или ее не было рядом.
Когда мы переехали, мне было четыре. Я был слишком мал и поэтому не задавался вопросом, кем же приходилась Лола нашей семье. Однако мы, дети, росли в США и смотрели на мир иначе, нежели наши родители. Скачок за океан потащил за собой скачок в сознании, на который мама и папа не могли или не хотели пойти.
Обещанных денег Лола не получала. Через пару лет после переезда она осторожно спросила родителей про пособие. Ее мать заболела (дизентерией, как я узнал впоследствии) и не могла позволить себе нужного лекарства. «Pwede ba?» — начала Лола. Возможно ли? Мать тяжело вздохнула. «Как ты смеешь? — отрезал отец по-тагальски. — Ты же видишь, как тяжело нам приходится. Стыда у тебя нет».
Родители были по уши в долгах. Сначала они заняли денег на переезд, затем — чтобы остаться. Отца перевели из главного консульства Филиппин в Лос-Анджелесе в консульство Сиэтла. Там он получал $5600 в год, и ему пришлось найти вторую работу — уборщиком трейлеров, а позже и третью — долговым коллектором. Мама устроилась помощницей в пару лабораторий. Родителей мы почти не видели, домой они приходили уставшими и сердитыми. По возвращении мама принималась отчитывать Лолу за плохую уборку или забытую почту. «Я же говорила, что письма должны лежать дома, когда я прихожу с работы, — кричала она по-тагальски. — Так трудно понять?! Любой дурак бы запомнил!»
После дома появлялся отец и тоже заводился. Когда он повышал голос, все в доме дрожали. Порой родители обрушивали свое негодование на Лолу вместе, и она начинала плакать. Возможно, этого они и добивались.
Я недоумевал: почему родители с большой нежностью относились к детям, но так подло и жестоко обращались с Лолой. Мне было 11 или 12 лет, когда я начал осознавать происходящее. К тому времени мой брат Артур, старше меня на восемь лет, уже давно выступал против тогдашнего положения Лолы. Именно он и объяснил мне, что Лола — наша рабыня. До того момента я видел в ней лишь несчастную родственницу, которую мы приютили. И хотя я с трудом переносил моменты, когда родители корили Лолу, мне и в голову не могло прийти, что они, да и вся ситуация в целом, могут быть бесчеловечны.

«Ты знаешь кого-нибудь, кто живет как наша Лола? — спросил Артур. — С кем обращаются так же, как с ней?» Он заключил: ей не платят, работает она круглые сутки, стоит Лоле присесть раньше времени, ей устраивают разнос, бьют за пререкания, одевается она в обноски и ест объедки в одиночестве на кухне, редко выходит из дома, у нее нет друзей и увлечений, нет личного пространства и даже своей кровати. В каждом доме, куда мы переезжали, Лола устраивалась как придется: на диване в гостиной, в кладовке или в углу комнаты моих сестер. Нередко она спала на грудах белья.
Сравнить положение Лолы нам было не с чем, разве только что с долей персонажей-рабов на телеэкране и в кино. Помню, я смотрел вестерн «Человек, который застрелил Либерти Вэланса», где Джон Уэйн играл Тома Донифона, отважного ковбоя, у которого был слуга Помпей; Том называл его «парнишкой». Помпей, подними его! Помпей, врача! Помпей, быстро к работе! А бедный Помпей во всем подчинялся, называя Донифона «миста Том». Отношения у них были сложные. Том запрещал Помпею ходить в школу, но открыл ему дорогу в салун для белых. В конце картины Помпей вытаскивает своего хозяина из огня. Парнишка боялся Донифона, но любил его и искренне горевал, когда тот умер. И все же основная сюжетная линия была вовсе не про Помпея, а про борьбу Тома Донифона с плохим парнем Либерти Вэлансом. Но подручный ковбоя приковал мое внимание. В голове крутилось: Лола — это Помпей, Помпей — это Лола.
Однажды вечером папа узнал, что моя сестра Линг, которой на тот момент было девять, пропустила обед, и не на шутку отругал Лолу за лень. «Я пыталась накормить ее», — оправдывалась она перед нависшей фигурой отца. Ее робкая защита только раззадорила папу, — удар пришелся чуть ниже плеча. Лола выбежала из комнаты, и я услышал пронзительный плач, похожий на крик раненого животного.
— Линг сказала, что не голодна, — вмешался я.
Родители, оглянувшись, уставились на меня. Казалось, я их чем-то напугал. Почувствовав, что вот-вот заплачу, я нашел силы сдержаться. В глазах мамы проскочила тень, которую я раньше не замечал. Ревность?
— Ты защищаешь свою Лолу? — спросил отец. — Вот, значит, что ты делаешь?
— Линг сказала, что не голодна, — повторил я почти шепотом.
Тринадцатилетним подростком я впервые попытался вступиться за женщину, которая годами заботилась обо мне. Женщину, которая пела мне колыбельные на тагальском, одевала, кормила, провожала в школу и встречала, когда я стал постарше. Как-то раз, когда я тяжело заболел и ослаб так, что даже не мог поднять ложку, Лола разжевывала для меня еду — оставалось лишь проглотить. Одно лето я провел в кровати с ногами в гипсе (у меня были проблемы с суставами), и Лола обтирала меня полотенцем, приносила лекарства посреди ночи, поддерживала в течение долгих месяцев восстановления. Сколько я капризничал! Но Лола ни разу не пожаловалась, не потеряла терпения. Ни разу.
Теперь же ее слезы сводили меня с ума.
На Филиппинах родители не скрывали своего отношения к Лоле. В Америке они относились к ней куда хуже, но скрепя сердце скрывали пренебрежение. Когда к нам приходили гости, мама с папой просто-напросто не обращали на Лолу внимания. Если же о ней спрашивали, они что-то придумывали на ходу и быстро меняли тему.
В Сиэтле мы соседствовали с Мисслерами, шумным семейством из восьми человек. Они познакомили нас с горчицей, ловлей лосося и стрижкой газонов, научили смотреть футбол по телевизору и громко болеть за своих. Во время матчей Лола приносила еду и напитки, а родители улыбались и благодарили ее, после чего она быстро исчезала. «Кто эта маленькая леди там, на кухне?» — бросил как-то раз Большой Джим, глава семейства Мисслеров. Родственница, ответил папа, до жути застенчивая.
Билли Мисслер, мой лучший друг, на отговорки отца не купился. Он проводил в нашем доме достаточно времени (иногда даже оставался на выходные), чтобы почуять неладное. Однажды Билли услышал, как мама кричала на кухне, и когда он ворвался, чтобы узнать, в чем же дело, то увидел ее с красным от злобы лицом и Лолу, в слезах дрожащую в углу. Я появился через пару секунд. На лице Билли виднелось смущение и непонимание. Что тут происходит? Я пожал плечами, мол, забудь об этом.
Мне кажется, Билли сочувствовал Лоле. Он нахваливал ее готовку, умел рассмешить ее — и я никогда не видел, чтоб Лола так заливалась смехом. Если Билли оставался на ночь, она стряпала его любимое филиппинское блюдо — тапу из говядины с белым рисом. Кухонные хлопоты были единственной ее отдушиной. По тому, что Лола подавала на стол, я мог определить: хочет ли она просто накормить нас или показать свою любовь.
Как-то я назвал Лолу дальней тетей, и Билли напомнил мне, что раньше я называл ее бабушкой.
— Она, типа, и то и другое, — неопределенно ответил я.
— А почему она постоянно работает?
— Ну, она любит возиться по дому, — нашелся я.
— А родители чего на нее кричат?
— У нее проблемы со слухом…
Правда выдала бы нас всех. Первые десять лет в США мы провели, пытаясь понять, как живут местные, и жить так же. Рабыня явно не вписывалась в привычный уклад жизни американцев. Ее наличие вызывало у меня сильные сомнения в нашей порядочности, в нашей родине. Заслуживали ли мы принятия новым обществом? Я стыдился всего этого, стыдился своей причастности. Разве я не ел еду, приготовленную Лолой, не носил одежду, которую она стирала, гладила и вешала в мой шкаф? Но без нее наша семья бы развалилась.
Впрочем, у нас была еще одна причина скрывать Лолу: ее разрешение на пребывание в США закончилось. В страну Лола попала по специальному паспорту, полученному благодаря работе отца. Однако из-за разногласий с начальством ему пришлось уволиться из консульства. Папа объявил о своем намерении остаться с семьей в Америке. Мы получили грин-карты, но Лола на нее рассчитывать не могла и должна была вернуться домой.

Мать Лолы Фермина умерла в 1973 году, отец Хиларио в 1979-м. Лола отчаянно рвалась домой, но каждый раз родители говорили: «Извини. Нет денег, нет времени. Дети нуждаются в тебе». Позже они признались, что кроме всего прочего боялись и за себя. Узнай власти о Лоле, а они узнали бы, попытайся она уехать, нам всем грозила бы депортация. На такой риск родители пойти не могли. Тогдашнее юридическое положение Лолы на Филиппинах называют tago nang tago, «в бегах». Так вот tago nang tago она прожила почти 20 лет.
Получив известие о смерти матери, а позже и отца, Лола совершенно поникла и долгие месяцы хранила молчание. Она почти не замечала нападок родителей — даже тогда они донимали Лолу — и просто выполняла приказы.
С увольнением отца из консульства наступил беспокойный период. Денег стало еще меньше, родители то и дело ссорились. Мы постоянно переезжали: из Сиэтла в Гонолулу, обратно в Сиэтл, оттуда в Нью-Йорк и, наконец, в крошечный город Юматилла в штате Орегон с населением всего 750 человек. Пока мы мотались по стране, мама часто работала суточными сменами: сначала интерном, затем врачом-ординатором. Отец же, бывало, исчезал на несколько дней, перебиваясь случайными заработками, и, как мы выяснили позже, изменял маме. Да и кто знает, чем еще он занимался. Как-то раз папа пришел домой и заявил, что проиграл в карты наш новый универсал.
Лола была единственным взрослым в доме днями напролет. В отличие от родителей, которые редко находились в курсе дел, она знала про нас все. Мы приходили домой с друзьями, и Лола слушала нашу болтовню про школу, девочек и мальчиков, про все, что у нас было на уме. Она могла с легкостью перечислить имена всех девчонок, которые мне нравились с шестого класса до окончания школы.
Отец ушел из семьи, когда мне было 15. Я не мог в это поверить, но факт оставался фактом: он бросил детей и жену, с которой они прожили в браке 25 лет. Маме так и не удалось получить диплом врача-терапевта, да и профессия была не особо прибыльной. Отец не платил алименты, и денег катастрофически не хватало.
Мама все же держалась и ходила на работу, однако вечерами ее охватывали отчаяние и жалость к себе. Лола стала для нее своего рода панацеей: и хотя на ней то и дело отыгрывались, она старалась готовить только самые любимые мамины блюда и убиралась в ее спальне с особым трудом. Нередко поздно вечером я заставал их сидящими вместе на кухне, где они за чашкой чая обсуждали отца, иногда презрительно хихикая, иногда с недовольством припоминая его проступки. За этими беседами они не замечали никого вокруг.
Однажды ночью я услышал мамин плач. Вбежав в гостиную, я увидел ее в объятиях Лолы; та что-то тихо приговаривала: так она успокаивала нас в детстве. Я потоптался на месте и отправился обратно к себе. Мне было жаль маму. Лола же поразила меня.
Дудс что-то напевал. Я задремал, казалось, на минуту, но, услышав мелодию, открыл глаза. «Еще пару часов», — сообщил Дудс. Я проверил, на месте ли коробка с прахом Лолы — да, она со мной — и бросил взгляд на дорогу. Мы ехали по шоссе Макартура. «Эй, ты сказал про „пару часов” пару часов назад», — заметил я, взглянув на часы. Но он как ни в чем не бывало продолжил напевать песенку.
Я был рад, что Дудс не знает о цели моей поездки. В голове крутились мысли о Лоле. Я был ничем не лучше своих родителей. Я мог бы сделать больше для освобождения Лолы. Облегчить ее жизнь. Почему я ничего не сделал? Я мог бы, наверное, выдать родителей и разом со всем покончить. Но вместо этого я, мои братья и сестры держали все в себе, а семья распадалась медленно.
Окруженные всеми оттенками зеленого, какие только есть на свете, мы с Дудсом любовались красотами Филиппин. Не теми, что обычно печатают в буклетах для туристов, а настоящими, живыми, поразительно спокойными по сравнению с городской суетой. Дорога бежала промеж горных цепей Замбале и Сьерра-Мадре.
Дудс указал мне на смутные очертания вдалеке. Вулкан Пинатубо. Я делал оттуда репортаж после извержения в 1991 году, второго по силе в 20 веке. Еще десять лет грязевые потоки, лахары, продолжали сходить с верхушки вулкана, заполняя русла рек и долины, сметая деревни и уничтожая целые экосистемы. Лахары проникли глубоко в Тарлак, где когда-то жила Лола со своей семьей и чуть позже — с моей матерью. Часть нашей семейной истории канула в войнах и наводнениях, часть оказалась погребенной под шестиметровым слоем грязи.
Жизнь на Филиппинах обыкновенно неспокойная. Смертоносные тайфуны, бушующие несколько раз в год, бесконечные бандитские перепалки, внезапные извержения столетиями спящих вулканов. Филиппины не Китай или Бразилия, территория которых смягчает последствия, а разбросанные по морю скалы. Какая беда — остров на время вымирает. Но затем жизнь снова входит в привычное русло и можно вновь любоваться пейзажем, каким наслаждались мы с Дудсом. И простой факт того, что он не исчез и продолжает радовать глаз, делает его еще более прекрасным.

Через пару лет после развода моя мать снова вышла замуж — за Ивана, эмигранта из Хорватии, с которым ее познакомила подруга. От Лолы мама требовала такого же безоговорочного подчинения новому мужу. Иван не закончил школу, был женат четыре раза. Он к тому же был заядлым игроком, и с радостью пользовался финансовой поддержкой мамы и услужливостью Лолы.
Иван открыл нам ту сторону Лолы, которую мы никогда не видели. Их с мамой брак был хрупким с самого начала. Деньги оставались главной проблемой, а в частности траты Иваном маминых средств. Однажды, во время одной из ссор, мама плакала, а Иван орал. Лола уверенно вмешалась и встала между ними. Повернувшись к Ивану, она резко окрикнула его по имени. Он взглянул на нее, моргнул и сел.
Мы с моей сестрой Индай рты открыли от изумления. Иван весил больше ста килограммов, от его баритона дрожали стены. Лола поставила его на место одним словом. Я видел подобное еще несколько раз, но обычно Лола так и прислуживала ему, как того хотела мама. С тяжелым сердцем я наблюдал, как Лола подчиняется чужому человеку, особенно такому, как Иван. Но для моей размолвки с матерью нашелся более прозаичный повод.
Мама всегда бесилась, когда Лола болела. Она не хотела лишних хлопот и трат, поэтому постоянно обвиняла Лолу в притворстве или неумении позаботиться о себе. Когда в конце 70-х у Лолы начались проблемы с зубами, мама выбрала второй вариант. Несколько месяцев Лола жаловалась на зубную боль.
— Вот что бывает, когда плохо чистишь зубы, — упрекала ее мама.
Я твердил: Лоле нужно к стоматологу. Ей было за 50, у врача она не была ни разу. Я учился в колледже в часе езды от дома и постоянно напоминал маме о проблеме Лолы по пути домой. Прошел год, два. Каждый день Лола пила аспирин, чтобы снять боль; рот ее напоминал Стоунхендж. Заметив случайно, как Лола пытается пережевать хлеб на той стороне, где еще были хорошие коренные зубы, я потерял терпение.
Мы с мамой спорили до глубокой ночи, то и дело сдерживая слезы. Она повторяла, что устала работать на износ и всех обеспечивать и сыта по горло тем, что дети всегда занимают сторону Лолы. И почему бы нам не забрать куда подальше эту чертову Лолу, которая в принципе не была ей нужна с самого начала. Мама богом клялась: она жалеет, что родила такого высокомерного ханжу и лицемера, как я.
Подождав, пока ее слова уложатся в голове, я нанес ответный удар, заявив: она наверняка знает о лицемерии больше, ведь всю свою жизнь она скрывалась под маской, и если она хоть на минуту перестанет жалеть себя, то увидит, как мучается Лола. Ее зубы сгнили, она едва может есть. Я спросил, может ли мама хоть на секунду увидеть в Лоле живого человека, а не рабыню, которая живет, только чтобы прислуживать ей?
— Рабыня, — повторила мама, задумавшись. — Рабыня?
Разговор закончился, когда мама объявила, что мне никогда не понять их с Лолой отношений. Никогда. Голос ее был надорван, в нем слышалось отчаяние. Мне и сейчас, спустя столько лет, больно вспоминать о нашей ссоре. Ужасно ненавидеть свою мать, но той ночью я ее ненавидел. Взгляд ее говорил: моя ненависть взаимна.
Наш раздор окончательно укрепил в маме мысль, что Лола украла у нее детей и должна за это заплатить. Все чаще и чаще она срывалась на нее, поддевала, как могла: «Надеюсь ты счастлива, твои дети отвернулись от меня». Когда мы помогали Лоле по дому, мама была вне себя. «Отдохни, Лола, — язвила она. — Тебе ведь так тяжело живется. Твои дети беспокоятся о тебе». Затем мама взяла за привычку разговаривать с Лолой в своей комнате, откуда та всегда выходила с заплаканными глазами.
В конце концов Лола попросила нас больше не помогать ей.
— Почему ты не уйдешь? — спрашивали мы.
«А кто же будет готовить?» — спрашивала в ответ Лола, что я понимал как: «Кто же будет делать всю работу по дому?» Кто позаботится о нас? О маме? В другой раз она ответила: «Куда же я пойду?» Этот ответ, мне показалось, был ближе к истине. Переезд в США превратился в отчаянный рывок: не успели мы перевести дух, как прошло десять лет, а затем и еще десятилетие. Волосы Лолы поседели. Она знала: родственники на Филиппинах, не получив обещанной помощи, недоумевали, что же с ней произошло. Возвращаться ей было стыдно.
Обратиться Лоле было не к кому, большую часть времени она проводила дома. Телефоны приводили ее в тупик. Любой аппарат с клавиатурой — банкомат, скажем, или домофон — повергал ее в панику. Она не понимала, если кто-то говорил по-английски слишком быстро, а ее ломаный язык не понимали американцы. Без посторонней помощи Лола не могла ни записаться на прием к врачу, ни организовать поездку, ни заполнить документы или заказать еду.
Однажды я дал Лоле банковскую карту, привязанную к моему счету, и показал, как пользоваться банкоматом. В первый раз у нее все получилось, но во второй, запутавшись, она перенервничала и больше никогда ей не пользовалась. Хотя карту она приберегла, считая ее моим подарком.
Еще я пытался научить Лолу водить. Сперва она отмахнулась, и тогда я схватил ее и понес к машине; мы смеялись. Минут 20 я рассказывал ей про управление и датчики. Улыбка Лолы сменилась паникой. Не успел я включить зажигание, Лола выскочила из машины и убежала в дом. Была еще пара попыток, но дело ничем не кончилось.
Я надеялся, что вождение изменит ее жизнь. Лола смогла бы ездить по городу, а если мамины выходки стали бы совсем невыносимыми, она могла бы уехать навсегда.
Четыре полосы превратились в две, асфальт сменился гравием. Мотоциклы с коляской пытались протиснуться между машинами и повозками с бамбуком, запряженными буйволами. Собаки и козы пробегали прямо перед нашим грузовиком, едва не задевая бампер. Дудс, впрочем, не притормаживал, ведь в филиппинской глубинке главный закон дороги гласит: если животное переехали, его тут же пустят на суп.
Достав карту, я пробежался по маршруту до деревни Мейанток, куда мы держали путь. Вдалеке виднелись крошечные фигуры, словно застывшие в поклоне — крестьяне собирают рис, как и много веков назад. Мы почти на месте.
Я постучал по дешевому пластиковому контейнеру и пожалел, что не купил хорошую урну из фарфора или палисандра. Что же подумают родственники Лолы? Их осталось не так много: из братьев и сестер жива только Грегория, ей 98 лет. Меня предупредили, что Грегорию подводит память. Еще мне сказали, что, едва услышав имя Лолы, она начинает плакать, но потом быстро забывает причину слез.

Я переписывался с одной из племянниц Лолы. К моему приезду она распланировала весь день: сначала небольшие поминки, затем молитва и погребение пепла на местном кладбище «Вечное блаженство». Прошло уже пять лет со смерти Лолы, но к прощанию я так и не был готов. Весь день меня одолевала невыносимая грусть, но я держался, не желая расплакаться при Дудсе. Сильнее стыда за то, как моя семья обращалась с Лолой, сильнее беспокойства о том, как меня примут ее родственники, сильнее всего давила тяжесть утраты Лолы. Казалось, будто она умерла только вчера.
Дудс свернул на шоссе Ромуло, затем еще раз у Камилинга, родного городка мамы и лейтенанта Тома. Две полосы слились в одну, гравий сменился грязью. Наш путь лежал вдоль реки. В стороне от дороги теснились бамбуковые хижины, впереди — зеленые холмы. Финишная прямая.
На похоронах матери я произносил надгробную речь и ни разу не слукавил. Она была сильной и энергичной женщиной. Да, судьба не баловала ее, но мама никогда не опускала руки. Она словно светилась, когда была счастлива. Она любила своих детей и подарила им постоянный дом в Сейлеме, которого раньше у семьи не было. Было бы здорово, если бы все мы могли отблагодарить ее еще хоть раз и напомнить, как мы ее любим.
О Лоле я старался не говорить. Точно так же я удалил, вырезал ее из своего сознания, пока мама болела. Любовь к ней требовала такой ментальной хирургии. Без этого отчаянного шага мы бы не смогли оставаться матерью и сыном, чего мне очень хотелось, особенно после того как в середине 90-х ее здоровье стало ухудшаться. Диабет. Рак груди. Острый миелоидный лейкоз — стремительно развивающийся рак крови и костного мозга. В одночасье, казалось, она из сильной волевой женщины превратилась в больную и слабую.
После той нашей ссоры я старался реже бывать дома и, когда мне стукнуло 23 года, переехал в Сиэтл. Изредка навещая семью, я замечал перемены. Мама оставалась мамой, но уже не столь резкой. У Лолы теперь были отличные зубные протезы и отдельная комната. Мама даже помогала, когда я со своими братьями и сестрами оформляли для Лолы документы. В 1986 году миграционная реформа Рональда Рейгана дала людям вроде Лолы шанс на легальное проживание в США. Процесс затянулся, но в октябре 1998 года Лола, наконец, получила документы. Через четыре месяца у мамы диагностировали лейкемию. Она прожила еще год.
В то время мама с Иваном часто ездили на побережье штата, в Линкольн-Сити, и порой брали Лолу с собой. Она любила океан: за ним лежали острова, куда она мечтала вернуться. И, думается, Лола никогда не была счастливее, чем в те часы, когда мама отдыхала. Час на пляже или пятнадцать минут на кухне за воспоминаниями о прошлой жизни и Лола забывала годы мучений.
Я же забыть их не мог, но мне удалось рассмотреть маму в другом свете. Перед смертью она отдала мне два чемодана, под завязку набитых дневниками. Листая их, пока мама спала, я краешком глаза увидел ту часть ее жизни, которую так долго отказывался видеть. Она стала врачом, когда женщин в этой профессии не жаловали. Более того, в США ей пришлось бороться за уважение не только как к женщине, но и как доктору-иммигранту. Она двадцать лет работала в Учебном центре Фейрвью для людей с задержкой в развитии. Ирония в том, что всю жизнь мама помогала несчастным, пациенты обожали ее. Коллеги-женщины стали ее близкими подругами; вместе они вели себя по-девчачьи: ходили по магазинам, устраивали костюмированные вечеринки, дарили друг другу дурацкие подарки типа мыла в форме пениса или календарей с полуобнаженными мужчинами, вовсю хохоча. Фотографии с их вечеринок напомнили мне, что у мамы была своя жизнь и интересы помимо семьи и Лолы. А как же.
Мама в подробностях писала о нас, детях, о своих чувствах к нам в тот или иной день. Не один дневник она посвятила своим мужьям, пытаясь ухватить их неоднозначную роль в истории собственной жизни. Семья много для нее значила. О Лоле же мама упоминала случайно, на ходу: «Сегодня Лола отвела моего Алекса в новую школу. Надеюсь, он быстро найдет друзей и не станет сильно переживать из-за очередного переезда…» Далее могла идти пара страниц обо мне, на которых о Лоле не было и слова.
За день до маминой смерти мы пригласили домой католического священника. Лола сидела у кровати, держа наготове стакан воды с соломинкой — в те дни она проявляла к маме особую заботу, особую нежность. Лола могла воспользоваться ее слабостью и отомстить, но сделала совершенно обратное.
Священник спросил маму, хочет ли она простить кого-то или попросить прощения. Тяжелым взглядом она обвела комнату. Затем, не обращая глаз к Лоле, положила руку ей на голову, так и не сказав ни слова.
Лоле было 75 лет, когда она переехала жить ко мне. Я был женат, воспитывал двух дочерей. Наш уютный дом находился на участке, окруженном деревьями, но из окон второго этажа открывался вид на залив Пьюджет. У Лолы была отдельная комната, она могла заниматься всем, чем душе угодно: спать, смотреть сериалы или вовсе ничего не делать целый день. Впервые в жизни она могла отдохнуть и ни о чем не думать. Мне стоило догадаться, что все будет несколько сложнее.
Я успел забыть о тех ее привычках, которые слегка выводили меня из себя. Она постоянно напоминала мне надеть свитер, чтобы не подхватить простуду (мне было за 40), беспрестанно ворчала на папу и Ивана: отец был лентяем, Иван — дармоедом. Я научился пропускать мимо ушей эти замечания. Однако игнорировать ее патологическую бережливость было куда сложнее. Лола ничего не выбрасывала, имея моду проверять мусор: а не выкинул ли кто чего полезного? Снова и снова она застирывала и пускала в ход использованные бумажные полотенца, пока они не распадались в ее руках (никто, кроме нее, к ним не притрагивался). Кухня была завалена пакетами из магазинов, упаковками из-под йогуртов, банками для соленых огурцов. Со временем некоторые части нашего дома превратились — иначе и не скажешь — в мусорный склад.
Лола готовила завтрак, хотя мы толком не завтракали, на ходу перекусывая бананом или злаковым батончиком. Еще она заправляла наши кровати, стирала, убирала в доме. Раз за разом я повторял, поначалу учтиво: «Лола, ты не должна этого делать». «Лола, мы сами справимся». «Лола, этим занимаются дочки». «Хорошо», — отвечала она и продолжала в том же духе.
Меня раздражало, когда Лола обедала на кухне стоя, или, завидев меня, бросала еду и начинала уборку. Спустя несколько месяцев я усадил ее за стол.
«Я не отец, а ты здесь не рабыня», — начал я и перечислил длинный список «рабских» обязанностей, которые она взвалила на себя в моем доме. Когда стало понятно, что Лола напугана, я сделал глубокий вдох и взял в ладони ее лицо, милое лицо, смотрящее на меня испытующими глазами. «Теперь это твой дом, — проговорил я, поцеловав ее в лоб. — Ты должна не прислуживать, а отдыхать. Договорились?»
«Договорились», — ответила Лола и вернулась к уборке.
Она не знала другой жизни. Я понял, что сам должен последовать своему совету и оставить ее в покое. Если Лола хочет приготовить обед, пусть готовит. Мы поблагодарим ее и помоем посуду. Мне приходилось бесконечно напоминать себе: пусть Лола делает, что хочет.
Однажды вечером я пришел домой и застал Лолу на диване: она решала кроссворд и смотрела телевизор. Рядом стояла кружка с чаем. Подняв глаза, она смущенно улыбнулась белоснежной улыбкой и вернулась к кроссворду. «А это прогресс», — пронеслось в голове.
На заднем дворе Лола разбила сад — розы, тюльпаны, невообразимое количество сортов орхидеи — и возилась с ним целыми днями. Еще она начала гулять по окрестностям. К восьмидесяти годам усилился давний артрит, и Лола вооружилась тростью. Кроме того, она перестала суетиться на кухне и теперь готовила нечасто, как шеф, которого охватило вдохновение. Лола собирала прекрасные обеды и расплывалась в улыбке, наблюдая за тем, как жадно мы ели.
Из комнаты Лолы нередко доносились народные филиппинские мотивы. Одна и та же кассета снова и снова. Я знал, что почти все свои деньги, а мы с женой давали ей примерно $200 в неделю, Лола отправляла родственникам. Как-то я застал ее на заднем дворе — она рассматривала фотографию, которую ей прислали из родной деревни.
— Хочешь домой? — спросил я.
Она перевернула фотографию и прочла надпись на обороте, ведя по ней пальцем. Закончив, она вновь принялась разглядывать детали картинки.
— Да, — ответила она.
Сразу после 83 дня рождения Лолы я купил ей билет домой. Сам же я собирался прилететь через месяц и забрать Лолу в США, если бы она захотела вернуться. Негласная цель поездки состояла в том, чтобы выяснить, будет ли Лола чувствовать себя в своей тарелке в тех местах, по которым тосковала столько лет.
И она нашла ответ.
«Все изменилось», — сказала Лола во время нашей прогулки по Мейянтоку. Старые фермы исчезли, исчез и родительский дом. Родители Лолы, большинство ее сестер и братьев умерли, друзья детства, которые еще были живы, казались незнакомцами. Было здорово увидеться со всеми, однако никто уже не был прежним. Она все еще хотела провести на Филиппинах свои последние годы, но пока была не готова.
— Ты хочешь вернуться к своему саду? — поинтересовался я.
— Да, полетели домой.

Лола посвящала себя моим дочерям так же, как когда-то была верна мне. После школы она слушала их истории и придумывала что-нибудь на обед. В отличие от моей жены и меня (особенно меня), Лола наслаждалась каждой минутой на всех школьных мероприятиях и выступлениях, их ей всегда было мало. Она всегда старалась сесть в первый ряд и сохраняла программки на память.
Осчастливить Лолу было несложно. Мы брали ее с собой в отпуск, но не меньший восторг у Лолы вызывал поход на обычный фермерский рынок неподалеку. «Гляньте-ка, ну и кабачки!» — приговаривала она, по-детски разинув рот от изумления. Каждое утро она первым делом распахивала шторы на всех окнах, ненадолго задерживаясь у каждого, выглядывая наружу.
Лола самостоятельно научилась читать. Совершенно потрясающе. С годами она каким-то образом сумела сопоставить звуки и буквы, и в дополнение взялась разгадывать головоломки, где в мешанине букв надо отыскать и обвести слово. В ее комнате грудились журналы с такими задачками, и тысячи слов были обведены ручкой. Каждый день Лола смотрела новости, пытаясь на слух распознать знакомые слова, а потом находила их в газете и определяла значение. Со временем Лола стала читать от корки до корки по газете каждый день. Папа говорил, что Лола глуповата; я же задался вопросом: кем бы она могла стать, если бы в детстве вместо работы на рисовых полях она училась грамоте.

В моем доме Лола прожила 12 лет, и все это время я силился узнать что-нибудь о ее жизни, пытался соединить известные мне сведения в одну картину. Мои расспросы Лола обыкновенно встречала с замешательством, спрашивая: «Почему? Почему тебе интересно мое детство или моя встреча с лейтенантом Томом?»
Как-то раз я даже попытался включить в расспросы свою сестру Линг, предполагая, что Лоле открыться ей будет легче. Но сестра только фыркнула — так она дала знать, что тут мне придется действовать в одиночку. Мы с Лолой разбирали покупки после очередного похода в магазин, и я наконец спросил: «Лола, а ты когда-нибудь была влюблена?» Она улыбнулась и рассказала мне историю о тех временах, когда испытала что-то похожее. Ей тогда было пятнадцать, и она познакомилась с симпатичным мальчишкой по имени Педро с соседней фермы. Несколько месяцев они бок о бок собирали рис. Однажды она уронила боло, такой большой нож, а Педро мигом поднял его и вручил ей. «Мне он очень нравился», — закончила Лола и замолкла.
— А дальше что?
— Педро уехал.
— И?
— И все.
— Лола, а у тебя когда-нибудь был секс? — выпалил я.
— Нет, — ответила она.
Она не привыкла к таким расспросам. «Katulong lang ako, — приговаривала она. — Я всего лишь служанка». Зачастую Лола отвечала односложно, и, чтобы вытащить из нее даже простую историю, требовалось вопросов 20, а сам процесс мог растянуться на несколько дней или недель.
Вот что мне удалось выяснить. Лола злилась на маму за ее жестокость, но скучала по ней. Иногда, в молодости, Лолу терзало одиночество, и ее единственным утешением были слезы. По тому, как она обнимала подушку во сне, я еще в ребенком догадался, что ей хотелось найти мужчину. Но в зрелом возрасте Лола сказала мне, что отношения моей мамы с мужьями дали ей понять — быть одиноким не так и плохо. По папе и Ивану она, к слову, не скучала. Кто знает, ее жизнь могла бы сложиться лучше, живи она в Мейянтоке с мужем и детьми, как ее братья и сестры. А может, и нет. Две ее младшие сестры — Франциска и Зеприяна — умерли молодыми от болезни, брата Клаудио убили. «Чего уж теперь об этом думать?» — считала Лола. Bahala na — будь что будет — еще одна ее любимая присказка. Впрочем, жизнь дала ей другую семью, где у нее было восемь детей: мама, я, мои братья и сестры и две моих дочери. Она говорила, что мы наполнили ее жизнь смыслом.
Лола умерла внезапно, никто не был к этому готов.
Сердечный приступ начался, когда Лола готовила ужин, а я бегал по делам, и, когда я вернулся, ей было совсем плохо. Через пару часов, в больнице, пока я пытался прийти в себя, она покинула нас. В 21:56. Никто не мог не заметить: Лола умерла в тот же день, что и мама — седьмого ноября. Двенадцать лет спустя.
Лола дожила до 86 лет. Я все еще вижу ее на носилках и помню, как смотрел на врачей, окруживших ее, такую маленькую и смуглую, и думал, что никто и понятия не имеет, какую жизнь она прожила. В Лоле не было и толики эгоистичных амбиций, которыми руководствуется каждый из нас. Ее готовность отказаться от всего ради близких людей завоевала нашу любовь и бесконечную преданность. Для моей большой семьи она стала святой.
Еще несколько месяцев я разбирал ее коробки на чердаке. Нашел рецепты, которые она вырезала из журналов 70-х годов в надежде, что когда-то научится читать, альбомы с фотографиями моей мамы, наши школьные награды, которые мы выбросили, а она «спасла». Я едва не расплакался, наткнувшись на пачку пожелтевших газетных вырезок с моими давними статьями, о которых успел позабыть. Она тогда не умела читать, но все равно их сберегла.

Дудс прижал грузовик к маленькому крепкому дому, вокруг которого теснились хижины из бамбука и досок. В бесконечность уносились зеленые рисовые поля. Не успел я выйти, как отовсюду повыглядывали местные.
Дудс откинул сиденье, собираясь вздремнуть. Я же повесил на плечо сумку, выдохнул и толкнул дверь машины.
«Сюда», — услышал я мягкий голос и последовал за ним. За мной вытянулась вереница из двадцати человек, молодых и пожилых — в основном пожилых. Когда мы вошли в дом, все расселись на кресла и лавки, середина же маленькой и темной комнаты осталась пустой. Там я и стоял в ожидании хозяйки дома. Пришедшие выжидающе смотрели на меня.
«Где Лола?» — раздался голос из другой комнаты. В ту же секунду оттуда, улыбаясь, неторопливо вышла женщина средних лет. Эбия, племянница Лолы. Это был ее дом. Мы обнялись, и она снова спросила: «Где же Лола?»

Я стянул сумку с плеча и протянул ей. Она вопросительно взглянула на меня, взяла сумку и присела с ней на деревянную скамейку, не снимая с лица улыбки. Заглянув внутрь, Эбия достала коробку и стала ее рассматривать.
«Где Лола?» — тихо произнесла она. В тех местах не принято кремировать близких. Она поставила коробку на колени и наклонилась, прижав к ней лоб. Сначала я подумал, что она смеется, но быстро понял: Эбия рыдала, ее плечи тряслись. Это был глубокий, полный скорби животный вой, который я когда-то слышал от Лолы.
Я не спешил везти прах Лолы на Филиппины, поскольку не был уверен, что там до нее есть кому-то дело. Неподдельная скорбь всех прибывших стала для меня неожиданностью. Не успел я хоть как-то успокоить Эбию, из кухни вышла женщина и, обняв сестру Лолы, тоже принялась плакать. Комната наполнилась стонами. Старики — кто слепой, кто без зубов — рыдали не сдерживаясь. Это продолжалось минут десять. Я был так потрясен, что едва заметил слезы на своем лице. Постепенно плач утих, и в комнате воцарилась тишина.
Всхлипнув, Эбия позвала всех к столу. Гости потянулись на кухню — с опухшими глазами, но легким сердцем, готовые предаться воспоминаниям. Я бросил взгляд на пустую сумку, лежащую на лавке, и понял, что поступил правильно, привезя Лолу туда, где она родилась.
Оригинал: The Atlantic
Автор истории: Алекс Тизон
Автор предисловия: Джеффри Голдберг
Перевела: Алена Зоренко
Редактировали: Слава Солнцева и Кирилл Казаков