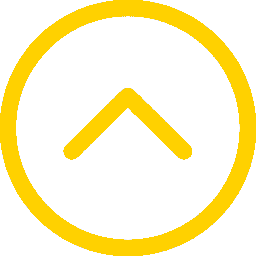В мае 2013 года у Пола Каланити, резидента (резидентура — аналог ординатуры в некоторых странах — прим. Newочём) в нейрохирургии Стэнфордского университета, диагностировали метастазирующий рак легких четвертой стадии. Ему было тридцать шесть лет. За два оставшихся ему года — он умер в марте 2015 — Пол продолжил учебу, увидел рождение дочери и прекрасно описал свой опыт жизни со смертельным диагнозом с точки зрения врача и пациента. В этом отрывке из его посмертно опубликованных мемуаров, озаглавленных «Когда дыхание становится воздухом» и вышедших 12 января 2016 года в издательстве Random House, Каланити пишет о его последнем дне медицинской практики.
Я слез с компьютерного томографа. Прошло семь месяцев после того, как я вернулся к хирургии. Это было моим последним сканированием перед окончанием резидентуры и рождением дочери, перед тем, как мое будущее станет реальным.
«Хотите посмотреть, док?», — спросил оператор.
«Не сейчас, — ответил я. — Сегодня у меня много работы».
Было уже шесть вечера, а я должен был осмотреть пациентов, запланировать операции на завтра, просмотреть рентгенограммы, сделать назначения, проверить моих послеоперационных больных и так далее. Около восьми вечера я сел в нейрохирургическом офисе за аппарат для просмотра рентгеновских изображений, включил его и посмотрел снимки моих пациентов на следующий день — две простые проблемы в позвоночнике — и наконец ввел свое собственное имя. Я пролистал изображения как детский флипбук, сравнивая новую томограмму с последней. Все выглядело одинаковым, старые опухоли остались точно такими же… кроме, погодите.
Я прокрутил изображения назад и посмотрел снова.
Вот она. Новая опухоль, большая, заполняющая среднюю правую долю. Она выглядела странно, словно полная луна с почти четкой границей. На старых снимках я мог различить самый слабый ее след, призрачный предвестник, который теперь полностью явил себя миру.
Я не был ни зол, ни напуган. Это случилось. Это был еще один факт об окружающем мире, как расстояние от Солнца до Земли. Я поехал домой и все рассказал Люси, моей жене. Это случилось в четверг вечером, а мой следующий визит к онкологу Эмме планировался не раньше понедельника, но Люси и я сели в большой комнате с ноутбуками и стали планировать, что делать дальше — биопсии, анализы, химиотерапию. На этот раз лечение будет труднее перенести, а ожидаемая продолжительность жизни сокращается. Томас Элиот как-то написал: «Но в вое ветра за моей спиной я слышу лязг и хохот костяной». Я не смогу заниматься нейрохирургией несколько недель, может быть, месяцев. Может быть, никогда. Но мы решили не думать об этом до понедельника.
Сегодня четверг, и расписание операций на завтра уже составлено. Значит, у меня будет еще один день, последний день работы в резидентуре.
Я вышел из машины у больницы в двадцать минут шестого следующим утром, глубоко вдохнул и ощутил запах эвкалипта и… как будто сосны. Никогда раньше не замечал. Я присоединился к команде резидентов, собравшихся для утреннего обхода. Мы обсудили события за ночь, поступивших больных, посмотрели новые рентгеновские снимки и пошли осматривать наших пациентов перед конференцией по заболеваемости и смертности — регулярном собрании, на котором нейрохирурги обсуждают допущенные ошибки и возникшие осложнения. Затем я зашел к мистеру Р. У этого пациента развился редкий недуг — синдром Герстмана. После того, как я удалил опухоль головного мозга, у него появились некоторые специфические нарушения: невозможность писать, считать, отличать пальцы рук, и определять, где право, а где лево. До этого я наблюдал синдром Герстмана всего один раз, восемь лет назад, когда был студентом, у одного из первых пациентов, которых я курировал в нейрохирургическом отделении. Как и тот пациент, мистер Р. был эйфоричен, возбужден, и мне стало любопытно, было ли это частью синдрома, которую ранее никто не описывал. Тем не менее, мистер Р. выздоравливал: его речь почти полностью восстановилась, а арифметические способности были нарушены лишь слегка. Вероятно, он полностью поправится.
Утро подходило к концу, и я мыл руки перед моей последней операцией. Внезапно меня охватил ужас. Неужели я делаю это в последний раз? Возможно, это так. Я смотрел на мыльную воду, стекающую с моих рук в раковину. Спустя несколько минут вошел в операционную, облачился в хирургическую одежду и укрыл больного, оставив операционное поле. Я хотел, чтобы эта операция была идеальной. Сделал разрез в поясничной области. Это был пожилой мужчина с дегенеративными изменениями позвоночника, которые сдавливали нервные корешки и вызывали сильную боль. Я отодвинул жировую клетчатку, пока не показалась фасция и не почувствовались отростки позвонков. Затем раскрыл фасцию и аккуратно раздвинул мышцы; в чистой и бескровной ране показались широкие блестящие позвонки. Мой руководитель зашел в операционную, когда я начал удалять пластинку дуги позвонка — заднюю стенку позвоночного канала, костные разрастания которой вместе со связками сдавливали нервы.
«Выглядит хорошо, — сказал он. — Если хочешь пойти на сегодняшнюю конференцию, я могу позвать кого-нибудь, кто закончит».
Спина начинала болеть. И почему я заранее не принял дополнительную дозу анальгетиков? Хотя, здесь недолго осталось. Я был у цели.
«Нет, — ответил я, — я хочу закончить операцию».
Коллега обработал руки, и вместе мы завершили удаление костных структур. Он начал убирать связки, под которыми находилась твердая мозговая оболочка, содержащая спинномозговую жидкость и нервные корешки. Самая частая ошибка на этом этапе — проткнуть твердую мозговую оболочку. Я работал на противоположной стороне. Краем глаза я увидел около его инструмента голубой проблеск — твердая мозговая оболочка показалась.
«Осторожно!» — сказал я в тот момент, когда мой напарник прикусил мозговую оболочку инструментом. Прозрачный ликвор начал заполнять рану. Больше чем за год у меня не было утечки ни в одной из операций. Закрытие дефекта займет еще один час.
«Отложите этот инструмент, — сказал я, — у нас ликвор течет».
К тому времени, как мы закрыли дефект и удалили сдавливающие мягкие ткани, мои плечи горели. Мой руководитель извинился, поблагодарил и оставил меня зашивать рану. Слои хорошо соединялись, и я начал шить кожу, используя непрерывный шов нейлоном. Большинство хирургов использовало скобы, но я был убежден, что у нейлонового шва частота инфекционных осложнений ниже, и мы наложили финальный шов именно так, как я хотел. Края кожи соединились превосходно, без натяжения, так, словно никакой операции и не было.
Хорошо вышло.
Когда мы снимали с пациента операционное белье, медсестра, с которой я раньше не работал, спросила: «Вы дежурите в эти выходные, док?»
«Нет». И, возможно, никогда больше.
«Сегодня еще есть операции?»
«Нет». И, возможно, никогда больше.
«Черт. Я полагаю, это означает хэппи энд! Работа выполнена. Я люблю хэппи энды, а вы, док?»
«Да. Да, я тоже люблю».
Пока медсестры прибирались, а анестезиологи начинали будить пациента, я сел к компьютеру, чтобы ввести назначения. Я всегда грозился в шутку, что когда закончу резидентуру, в операционной вместо энергичной поп-музыки, которую все любили, мы будем слушать только босса-нову. Я включил радио, заиграл «Гетц и Жилберту», и нежные звуки саксофона наполнили комнату.
Вскоре я вышел из операционной и собрал свои вещи, которые накопились за семь лет работы: дополнительные комплекты одежды для тех случаев, когда ночуешь в больнице, зубные щетки, мыло, зарядки для телефона, еду для перекусов, мою модель черепа, коллекцию книг по нейрохирургии и прочее.
Поразмыслив, я решил оставить мои книги в больнице. Здесь они больше пригодятся.
По дороге на парковку меня догнал приятель, чтобы спросить что-то, но его пейджер зазвенел. Он посмотрел на него, помахал и побежал обратно в больницу. «Увидимся позже!», — крикнул он через плечо. Когда сел в машину, повернул ключи и выехал на улицу, из глаз покатились слезы. Я приехал домой, вошел через главный вход, повесил мой белый халат, снял бейдж и вынул батарею из пейджера. Я снял хирургический костюм и долго стоял под душем.
Вечером созвонился с Викторией (моей коллегой) и сказал ей, что не приду в понедельник и, может быть, никогда больше, и чтобы не ставили меня в график операций.
«Знаешь, меня преследует кошмар о том, что этот день наступил, — сказала она. — Я не знаю, как ты держался так долго».
По материалам: Newyorker. Перевел: Тимофей Максимов.
Редактировали: Анна Небольсина, Дмитрий Грушин.