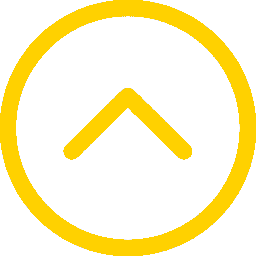На протяжении десятилетий в лингвистике превалировала идея языкового инстинкта: простая, убедительная — и совершенно неправильная.
Подкаст на YouTube, Apple, Spotify и других сервисах
Представьте, что вы путешествуете по необычной местности. К вам подходит местный житель и начинает что-то лепетать на незнакомом языке. Кажется, он вполне искренне пытается что-то сообщить и на что-то указывает, но вам при всем желании не удастся разобрать, что он говорит.
Примерно в таком положении оказывается ребенок, который впервые сталкивается с языком. На самом деле, ему приходится даже сложнее. Тем не менее, к четырем годам все дети на Земле — если в их развитии нет умственных отклонений — превращаются в гениев лингвистики. И происходит это еще до того, как они идут в школу, учатся кататься на велосипеде, завязывать шнурки, складывать и вычитать. Это кажется чудом. Пожалуй, задача разгадать это чудо была одной из центральных для науки о языке на протяжении последних 50 лет.
В 1960-х американский лингвист и философ предложил свою отгадку. Он предположил, что дети не учат родной язык — или, по крайней мере, не учат его вплоть до грамматической составляющей (уж очень легко и безболезненно давался им этот процесс). Хомский (а это был он) считал, что дети рождаются уже с зачатками грамматического знания — этакой «универсальной грамматикой», встроенной в человеческую ДНК. С такой генетической предрасположенностью к языкам разобраться в незначительных различиях между английским и французским должно быть проще простого. И все работает, потому что у младенцев срабатывает языковой инстинкт: грамматический чемоданчик подбирает отмычки ко всем языкам мира.
Такой прием одновременно делает изучение родного языка безболезненным и объясняет, как у детей получается так быстро его выучить. Гениально. Теория Хомского 40 лет главенствовала в лингвистике. И все же она — миф: за последние годы собрался целый ворох доказательств того, что Хомский оказался не прав.
Но сначала давайте вернемся немного назад. Есть один довод, с которым все соглашаются: у нашего вида совершенно точно есть предрасположенность к языкам. Наш мозг в определенном смысле готов к языку: его рабочей памяти достаточно для того, чтобы обрабатывать синтаксис на уровне предложений, а необычайно большая префронтальная кора подарила нам ассоциативное научение и возможность понимать символы. Наши тела тоже хорошо приспособлены к языку: гортань расположена ниже, чем у других человекообразных, что позволяет нам выпускать и контролировать потоки воздуха. Благодаря крошечной подъязычной кости мы отлично контролируем свои рты и языки, что позволяет нам издавать до 144 различных звуков. Никто не спорит, что это врожденные способности и они очень важны для языка.
Что вызывает сомнения, так это утверждение, что все дети рождаются со знанием языка — этакой языковой «прошивкой». Идея Хомского состоит в том, что язык вырастает в сознании ребенка точно так же, как растут органы тела: сердце, мозг, почки и печень. «Языковой орган», как его называет Хомский, появляется еще в младенчестве. В нем есть схемы грамматических правил для всех языков мира. С таким инструментом выучить любой естественный язык — просто детская забава. Ребенок, рожденный в Токио, выучит японский, а малыш из Лондона заговорит на английском. Может показаться, что это очень разные языки, но по сути они практически одинаковые, потому что в их основе лежит единая грамматическая операционная система. Канадский когнитивист Стивен Пинкер называл эту способность «языковым инстинктом».
Есть два главных довода в пользу существования языкового инстинкта. Первый довод — проблема плохих учителей. Как писал Хомский в 1965 году, дети усваивают родной язык без каких-либо объяснений. Когда они говорят: «Папа, посмотри на овцов» или «мама ко мне злится», родители не исправляют грамматику, а умиляются своему чаду.
Более того, за такими примитивными ошибками скрываются невероятные достижения. Ведь ребенок каким-то образом осознает, что есть такой лексический класс, как существительные, у них может быть единственное и множественное число, и это отличие не распространяется на другие части речи.
Их этому никто не учит: большинство родителей и сами не знают грамматику. И сложно поверить, что дети могут усвоить правила, просто внимательно слушая, ведь это главный ключ к пониманию того, как работает язык. Идея языкового инстинкта будет очень кстати, если представить, что дети понимают, что в системе языка есть существительные, которые обладают множественным числом и отличаются от глаголов. Получается, детям не нужно разбираться во всем с нуля: базовые различия прошиты на подкорке.
Детям не объясняют правила на родном языке. Как же тогда они усваивают грамматику?
Второй довод Хомского переключает внимание на способности ребенка. Пусть это будет проблемой нерадивых учеников. Какие общие способности к обучению дети задействуют в процессе усвоения языка? Когда Хомский только формулировал свои идеи, самые распространенные теории обучения, например, бихевиористский подход американского психолога Берреса Фредерика Скиннера, никак не могли описать все сложности изучения языка.
Бихевиоризм рассматривал обучение в контексте механизма «стимул-реакция», то есть того самого, что заставлял собаку Павлова выделять слюну при звоне колокольчика. Но, как отметил Хомский в своем сокрушительном разборе идей Скиннера в 1959 году, дети не изучают правила родного языка, а значит, бихевиоризм не может объяснить, как им удается овладеть грамматикой. Хомский заключил, что дети начинают учить язык уже будучи подготовленными. Если никто не объясняет им грамматические правила, а способности к обучению не позволяют научиться только лишь посредством наблюдения, значит, основами грамматики они владеют с рождения.
В общем и целом, теория Хомского держится на этих двух аргументах. Довольно скромно, правда? Тем не менее, это довольно значимый теоретический груз для главной идеи Хомского. И за последние 20 лет «языковой инстинкт» зашатался под его весом.
Начнем с достаточно простого. Правильно ли называть врожденную способность к языку «инстинктом»? Если задуматься, то не особо. Инстинкт — это врожденная предрасположенность к определенному адаптивному поведению. Взрослеющему пауку нет нужды наблюдать за старшим товарищем, чтобы научиться плести паутину — он просто примется за работу в какой-то момент, и никакая инструкция не понадобится.
Другое дело — язык. В поп-культуре популярны образы Тарзана и Маугли, людей, которые выросли среди животных и человеческой речью овладели уже во взрослом возрасте. Однако сейчас есть несколько хорошо задокументированных историй так называемых «диких» детей — они, случайно или намеренно, не взаимодействовали с языком вообще. Например, ужасающая история американской девочки Джинни, которую отец продержал взаперти всю жизнь, пока ее не освободили в 1970 году в возрасте 13 лет. Опыт этих несчастных указывает на то, что без взаимодействия с языковой средой ребенок не сможет выучить язык. Как бы это ни преподносили, язык не может быть инстинктом в том смысле, в каком им является умение паука плести паутину.
Но это так, к слову. Важнее другое: если мы от рождения на каком-то рудиментарном уровне владеем семью — или около того — тысячами языков, то все они должны быть в какой-то степени идентичными. Их должен объединять набор базовых грамматических «универсальных переменных». Однако нам не удалось обнаружить эти основополагающие сходства. Ниже — лишь капля многообразия, которое открылось нам в ходе исследования.
Устные формы языков значительно отличаются в том, что касается количества используемых в речи различимых звуков: от 11 до впечатляющих 144 в некоторых койсанских языках (распространенные в Африке языки, в которых активно используются щелкающие согласные — прим. Newочём). Они также не совпадают в порядке слов, используемом для подлежащего, сказуемого и дополнения. В английском принята достаточно распространенная схема: подлежащее — сказуемое — дополнение. Например: Собака (подлежащее) укусила (сказуемое) почтальона (дополнение). Однако в других языках все происходит совершенно по-другому. В дживарли (один из языков коренного населения Австралии — прим. Newочём) составные части английского предложения «Эта женщина поцеловала того лысого мойщика окон» были бы выстроены в следующем порядке: «Этого эта лысого поцеловала женщина мойщика окон».
Идеофон (слово, значение которого основано на имитации звуков окружающей действительности — прим. Newочём) «рибуй-тибуй» из языка мундари описывает вид, движение и звук, издаваемый при движении пятой точкой полного человека.
Во многих языках порядок слов используется для того, чтобы показать, кто делает что и с кем. В других языках такой схемы не существует: вместо этого предложения строятся по принципу превращения маленьких слов в огромный словесный ком. Лингвисты называют такие «детали» слов морфемами. Их можно комбинировать для создания новых слов — как это происходит в случае с английским un-help-ful-ly (англ. бес-помощ(ь)-но). Слово tawakiqutiqarpiit (язык инуктитут, восточно-канадский инуитский диалект — прим. Newочём) приблизительно означает: «У тебя есть с собой табак на продажу?» Порядок слов не столь важен, когда каждое слово представляет собой отдельное предложение.
Основные компоненты языка — по крайней мере, с точки зрения англоязычного человека — это части речи: существительные, глаголы, прилагательные, наречия и пр. Однако во многих языках не существует наречий, а в некоторых — например, лао (язык, распространенный в Лаосе и некоторых районах Таиланда — прим. Newочём) — нет прилагательных. Некоторые даже утверждали, что селиш (язык аборигенов Британской Колумбии — прим. Newочём) прекрасно обходится без существительных и глаголов. Более того, в некоторых языках встречаются грамматические категории, которые кажутся нам, носителям англоцентричной точки зрения, абсолютно чужеродными. Мой любимый пример — идеофон, грамматическая конструкция, используемая в ряде языков, чтобы придать остроты повествованию. Идеофон — это полноценный тип слова, объединяющего в себе описания различных чувственных переживаний, источником которых служит одиночное действие: к примеру, слово «рибуй-тибуй» из языка мундари описывает вид, движение и звук, издаваемый при движении пятой точкой полного человека.
И, разумеется, язык вовсе не обязательно должен иметь разговорную форму: порядка 130 языков жестов прекрасно функционируют без звуков. Заслуживает внимания тот факт, что заложенное в слово лингвистическое значение может выражаться многочисленными способами: в речи, жестами, на распечатанной странице или на экране компьютера. Чтобы понять слово, не нужно быть привязанным к какому-либо определенному способу его выражения. Если у всех человеческих языков и есть какой-то общий знаменатель, то насколько же странно, что он должен быть скрыт за столь обескураживающим многообразием различий. По мере того, как на протяжении многих лет учеными были обнаружены все эти нисколько не помогающие исследованию особенности, сторонники теории «инстинктивного» овладения языком начали последовательно принижать ранее считавшийся универсальным компонент языковой грамотности, якобы присутствующий в человеческом мозге. В версии от 2002-го года Хомский и его коллеги из Гарварда предположили, что, возможно, единственный оригинальный компонент способности человека говорить на каком-то языке — это рекурсия (логическая операция, в ходе которой одна единица высказывания «вкладывается» в другую — прим. Newочём).
Рекурсия позволяет нам группировать слова и грамматические единицы так, чтобы они создавали потенциально сложнейшие предложения. Например, благодаря рекурсии я могу использовать конструкции относительных придаточных — фразы, начинающиеся с «который» — для создания бесконечных предложений: «Магазин, который расположен на улице Петтикот, которая находится неподалеку от башни Мэри-Экс, которая…» Однако теперь мы знаем, что люди — не единственный биологический вид, способный распознавать рекурсию: этим же талантом наделены и скворцы. Эта «уникальная» особенность человеческой грамматики в конечном счете может оказаться не такой уж и необычной. Также по-прежнему непонятно, является ли она универсальной для всех человеческих языков. Многие исследователи предполагают, что на самом деле рекурсия могла появиться достаточно поздно в ходе эволюции человеческих грамматических систем и представлять собой скорее следствие, нежели причину. А в 2005 году американский лингвист-антрополог Дэниэл Эверетт предположил, что пираха — язык аборигенов амазонских тропических лесов — и вовсе не предполагает использования рекурсии. И правда, было бы слишком странно, если бы оказалось, что грамматика действительно «встроена» в наш мозг.
Вот вам и универсальные переменные. Возможно, более серьезная проблема для «языка как инстинкта» заключается в предположениях о том, как мы учимся говорить. Предполагалось, что таким образом можно будет обосновать наблюдение о быстроте и автоматизме усвоения нами родного языка. Однако проблема в том, что, похоже, теория Хомски пытается представить процесс освоения языка как намного более быстрый и автоматизированный, чем в реальности.
Когда ребенок с нулевой «универсальной грамматикой» приобретает свой первый язык, обнаружение грамматического правила в своей родной речи должно побудить его применять эту закономерность повсюду, во всех схожих ситуациях. Возьмем слово «кошка». Услышав, как родители обращаются к кошке, используя определенный артикль, ребенок должен сделать вывод о том, что определенный артикль может применяться ко всем существительным. Универсальная грамматика помогает предположить, что существуют и другие существительные, а также, возможно, даже стратегия, позволяющая как-то их изменять — так что ребенок готов снова встретиться с этой лексической единицей и ищет правила, по которым в английском языке изменяются существительные: в частности, систему артиклей. Всего нескольких секунд, за которые ребенок услышал, что за артиклем следует существительное, должно хватить: любой ребенок, осваивающий английский, должен немедленно понять суть правила и начать уверенно применять его к целому классу существительных. Короче, в таком случае мы должны были быть готовы увидеть скачки в процессе овладения ребенком языком. У новорожденного должны наблюдаться резкие скачки в сложности используемых им грамматических конструкций — и происходить они должны каждый раз, когда ребенок овладевает новым правилом.
Освоение языка может происходить невероятно быстро, однако оно является продуктом болезненного процесса — удивительной системы проб и ошибок. К сожалению, это предположение не совпадает с результатами исследований, проводившихся онтолингвистами (представители сферы лингвистики, отвечающей за исследование развития детской речи — прим. Newочём). Напротив, судя по всему, дети приобретают грамматику достаточно постепенно. К примеру, если рассматривать использование системы артиклей в английском языке, дети долго будут использовать определенный артикль только в отношении тех существительных, с которыми они уже его слышали. Лишь позже дети начинают применять правило за пределами услышанного, постепенно добавляя артикли к большему количеству слов.
Эта закономерность, похоже, верна в отношении всех грамматических категорий. Дети не начинают применять правила неравномерными скачками, как мы могли бы надеяться, если бы в мире действительно существовал врожденный прообраз грамматики. Скорее всего, мы осваиваем язык, замечая определенные закономерности во встречающейся нам речи — а не применяя к жизни «врожденные» правила. Со временем дети постепенно разбираются, как пользоваться различными категориями речи. Поэтому, хотя освоение языка и может казаться невероятно быстрым процессом, на самом деле в нем нет почти ничего автоматического: он является продуктом болезненного процесса проб и ошибок.
Что мог бы представлять из себя «языковой инстинкт»? Ну, если язык рождается из грамматического гена, закладывающего в нашем мозге специальный орган во время развития плода, было бы логично предположить, что язык должен занимать отдельный участок в нашем сознании. В мозге должен существовать специфический сектор, предназначающийся исключительно для языка — особая зона. Другими словами, «языковой процессор» мозга должен быть надежно скрыт в нем самом и никак не влиять на другие аспекты функционирования сознания.
Исследования, проводившиеся в последние несколько десятилетий когнитивными психологами, помогают начать приоткрывать завесу тайны относительно того, где конкретно в мозге расположена ответственная за язык зона. Если вкратце, то везде. Когда-то языковым центром считался участок, известный как центр Брока. Сейчас мы знаем, что он ответствен не только за язык, но и участвует в процессах прочих, не связанных с лингвистикой, моторных функций. А некоторые аспекты лингвистического знания и его обработки встречаются практически везде в мозге. Хотя отдельные участки мозга и специализируются исключительно на обработке отдельных видов информации — как, например, в случае со зрением — ученые так и не обнаружили участок, ответственный только за язык.
Однако, возможно, за уникальность языка отвечает не какое-то место, а образ действия? Что, если у нас в мозге существует специфический тип неврологической реакции, уникальный именно для языка, вне зависимости от того, какая зона мозга отвечает за взаимодействие с ним? В таком случае речь идет скорее о концепции функциональной, нежели физической модальности. Одним из способов продемонстрировать ее было бы найти нескольких людей с нормальными языковыми способностями на фоне пониженного интеллекта — и наоборот. Таким образом, исследователю удалось бы доказать наличие «двойной диссоциации» — демонстрации взаимной независимости вербальных и невербальных способностей.
Чтобы универсальная грамматика действительно была «встроена» в наш мозг, она должна была бы передаваться на генном уровне.
В своей книге «Язык как инстинкт» Стивен Пинкер рассматривал многочисленные патологии языка с целью обосновать именно подобные диссоциации. К примеру, некоторые дети страдают от синдрома, известного как специфическое расстройство речи — у них нет проблем с интеллектом, однако они не могут выполнить ряд вербальных задач, запинаясь на некоторых грамматических правилах, и пр. Такое состояние выглядит как убедительный аргумент — или могло бы быть таковым, если бы позже не оказалось, что на самом деле специфическое расстройство речи — это просто трудности с некоторыми аспектами слухового восприятия. Другими словами, это последствие моторного дефекта, а не исключительно лингвистическое расстройство. То же можно сказать и про все остальные расстройства, описанные в книге Пинкера: причиной вербальных проблем всегда оказывается не язык, а какие-то другие факторы.
Вышеописанные аргументы наводят на мысль, что в мозге нет специализированного языкового органа. Ряд альтернативных доказательств указывает на нечто более значимое: такого органа просто не могло быть. Для того чтобы универсальная грамматика была встроена в микросхему нашего мозга, она должна передаваться генетическим путем. Но недавние исследования в области нейробиологии показали, что человеческое ДНК просто не обладает достаточной для этого мощностью кодирования. Наш геном обладает крайне ограниченной способностью вмещать информацию; значительная часть нашего генетического кода задействуется в формировании нашей нервной системы еще до участия в каких-либо других процессах. Чтобы записать что-то столь же подробное и конкретное, как гипотетически существующая универсальная грамматика, в мозге младенца, потребовались бы огромные информационные ресурсы, которые наша ДНК просто не может выделить. Поэтому предположение о существовании генетически передаваемого языкового инстинкта выглядит сомнительным.
Есть еще одна большая проблема с теорией универсальной грамматики: ее странное участие в эволюции человека. Если способность к языку заложена в генах, то очевидно, что язык должен был возникнуть на каком-то этапе эволюции нашего вида. В то время, когда Хомский разрабатывал свою теорию, считалось, что у других видов нашего рода, например, у неандертальцев, языка не было. Это должно было сузить круг возможных моментов его появления. Между тем, относительно позднее (около 50 000 лет назад) зарождение сложной человеческой культуры (создание непримитивных орудий труда, украшений, наскальных рисунков и т.п.), казалось, и требует, и подтверждает необходимость столь позднего возникновения речи. Хомский настаивал на том, что язык мог появиться в результате генетической мутации всего лишь 100 000 лет назад.
А теперь давайте остановимся на секунду и подумаем: ведь это же совершенно фантастическая идея. Во-первых, Хомский утверждает, что язык возник в результате макромутации, отдельного скачка. Но такое предположение вступает в противоречие с общепризнанной в настоящее время неодарвиновской синтетической теорией, в которой нет места столь масштабным и беспрецедентным скачкам. Изменения не возникают сразу «в готовом виде». Во-вторых, из гипотезы Хомского следует невероятное: язык не мог эволюционировать как метод улучшения коммуникации. Ведь даже если бы ген грамматики мог ни с того ни с сего появиться у одного счастливчика, что уже крайне маловероятно, шансы двух индивидуумов одновременно приобрести одинаковую мутацию кажутся еще менее правдоподобными. Таким образом, исходя из теории языкового инстинкта, первому человеку, овладевшему языком, просто не с кем было поговорить.
Чувствуется, что где-то закралась ошибка. Да, сейчас некоторые предположения Хомского об эволюции считаются неверными. Недавние реконструкции речевого аппарата неандертальцев показали, что эти люди, возможно, обладали речевыми навыками достаточно современного качества. Также стало ясно, что, в отличие от тупых дикарей в популярных мифах, они обладали сложной материальной культурой, в том числе способностью создавать пещерные гравюры и сложные каменные орудия, что не отличается от проявлений культурной революции, произошедшей 50 000 лет назад.
Сложно представить, как они могли бы организовать необходимое для этого обучение и взаимодействие, если б у них не было языка. Более того, недавний генетический анализ показал, что нередко происходило скрещивание: у большинства современных людей есть несколько фрагментов явно неандертальской ДНК. Теперь представляется, что Homo sapiens не пришли и не истребили несчастных человекообезьян, а жили рядом с Homo neanderthalensis и даже смешивались с ними. Не будет противоестественным предположение, что эти люди могли коммуницировать друг с другом.
Это все хорошо, но остаются вопросы. Почему так получилось, что сегодня только люди обладают самой сложной среди других животных способностью взаимодействовать — речью? Бесспорно, должно было произойти что-то, что отрезало нас от наших ближайших выживших родственников. Трудной задачей для противников теории универсальной грамматики остается сказать, что это было. Возможное объяснение вытекает из того, что можно назвать «кооперативным интеллектом», и событий, которые два миллиона лет назад дали толчок его развитию.
История нашего рода, Homo, началась 2,5 миллиона лет назад. До этого момента нашими ближайшими предками были австралопитеки — прямоходящие обезьяны, чей разум был сопоставим с интеллектом шимпанзе. Но в какой-то момент что-то, должно быть, поменялось в их экологической нише. Эти первобытные люди перешли от фруктовой диеты — как и большинство современных человекообразных обезьян — к мясу. Новая диета требовала иного социального устройства и иного типа кооперативной стратегии (трудно охотиться на крупную дичь в одиночку). Это, в свою очередь, повлекло за собой появление новых форм кооперативного мышления на более широком уровне: возникли социальные механизмы, гарантирующие охотникам равную долю добычи и обеспечивающие женщин и детей, которые были менее приспособлены к охоте, своей долей.
По мнению американского сравнительного психолога Майкла Томаселло, к тому времени, когда около 300 000 лет назад появился общий предок Homo sapiens и Homo neanderthalensis, его предшественники уже развили сложный тип кооперативного интеллекта. Это видно из находок археологов, демонстрирующих сложность общественной жизни и механизмов взаимодействия между нашими далекими предками. Возможно, они пользовались символами — прототипами единиц языка — и были способны к рекурсивному мышлению, что, по некоторым оценкам, является следствием медленного возникновения все усложняющейся символьной грамматики. Новая экологическая ситуация неизбежно привела бы к изменениям в человеческом поведении. Потребовалось бы использование орудий и совместная охота, а также новые социальные договоренности: например, об охране привилегий моногамных отношений, пока самцы были на охоте.
Нам не нужно гадать, существует ли особый языковой инстинкт: достаточно посмотреть на те перемены, которые сделали нас такими, какие мы есть
Это новое общественное давление ускорило бы изменения в структуре мозга. Со временем мы увидим способность к языку. В конце концов, язык — это парадигматический пример кооперативного поведения: он требует условностей — норм, согласованных внутри сообщества — и его можно использовать для координации всех дополнительных сложных форм поведения, которые требуются в новой нише.
С этой точки зрения нам не нужно гадать, существует ли особый языковой инстинкт: достаточно взглянуть на изменения, которые сделали нас такими, какие мы есть, изменения, которые проложили путь к речи. Они позволяют нам представить появление языка как постепенный процесс, возникший в результате множества пересекающихся тенденций. Возникновение речи могло начаться, например, как сложная система жестов, впоследствии развившаяся до вокальных проявлений. Но, несомненно, самым серьезным толчком на пути к появлению речи стало бы развитие нашего инстинкта сотрудничества. Этим я не хочу сказать, что мы всегда ладим. Но мы почти всегда воспринимаем других людей как подобных нам самим мыслящих существ со своими мыслями и чувствами, на которые мы можем попытаться повлиять.
Мы видим, как этот инстинкт работает у малышей, когда они пытаются выучить язык матери/их родной язык. У детей гораздо более развиты способности к обучению, чем предполагал Хомский. Они могут использовать сложные способности распознавания намерений с раннего возраста (возможно, уже с девяти месяцев), чтобы начать выяснять коммуникативные цели окружающих их взрослых. И это, прежде всего, результат нашего умения сотрудничать. Это нисколько не умаляет язык: когда он появился, он позволил нам изменять мир по нашей воле — к лучшему или к худшему. Он высвободил огромные возможности человечества в области изобретений и преобразований. Но речь не возникла из ниоткуда и не стоит отдельно от остальных сфер нашей жизни. В 21 веке мы в состоянии наконец отбросить миф об универсальной грамматике и начать видеть этот уникальный аспект нашей человечности таким, какой он есть.
По материалам Aeon
Автор: Вивиан Эванс
Переводили: Екатерина Кузнецова, Софья Фальковская, Анастасия Заостровцева
Редактировала: Софья Фальковская